Впрочем, вернемся к тридцатым годам. Ефим (в некоторых источниках — Яков) Розенфельд наименее известен. Розенфельд руководил в конце 30-х гг. в Ленинграде собственной инструментальной капеллой, именовавшейся и джазом, и аккордеонным ансамблем. По степени соответствия вкусовым ожиданиям неджазовой аудитории с капеллой Розенфельда мог состязаться, пожалуй, лишь оркестр Фердинанда Криша. В эту пору Розенфельд написал два танго — «Люблю» («Я возвращаю Ваш портрет...») и «Счастье мое», не только не оставшиеся незамеченными широкой публикой, но благодаря тенору Георгию Виноградову, красочной аранжировке и яркому оркестровому сопровождению прочно вошедшие в музыкальный быт тогдашнего СССР. О неувядающей популярности этих двух песен, которые в свое время можно было снабдить лозунгом «Наш ответ Ежи Петерсбурскому и Оскару Строку», наглядно свидетельствует тот факт, что в 90-х гг Гидон Кремер — Crerne de la Creme советской исполнительской школы — наиграл «Счастье мое» для одного из первых своих танго-дисков. Розенфельд, находившийся, думаю, под гипнотическим обаянием творчества О. Д. Строка (о нем речь впереди), заметной роли в музыке не сыграл, но, как мудро отметил Г. Скороходов, «обладал» счастливым умением схватить те черты жанра, которые обеспечивали популярность. Оба танго не были плагиатом или компиляцией, но они вобрали в себя музыкальные приемы, ходы, знакомые по другим произведениям. Будучи подражательными, они не поднимались до уровня оригинала. Подобное собрание «знакомого» обеспечило этим записям широкое распространение». Успех был запрограммирован: «голод на лирику» плюс незамысловатое и в то же время продуманное сочетание жизнеутверждающих, в духе советской массовой песни («цветущая юность»), и ностальгически-салонных сентиментально-романсовых компонентов («тенистый вспоминаю сад») всецело «работали» на автора.
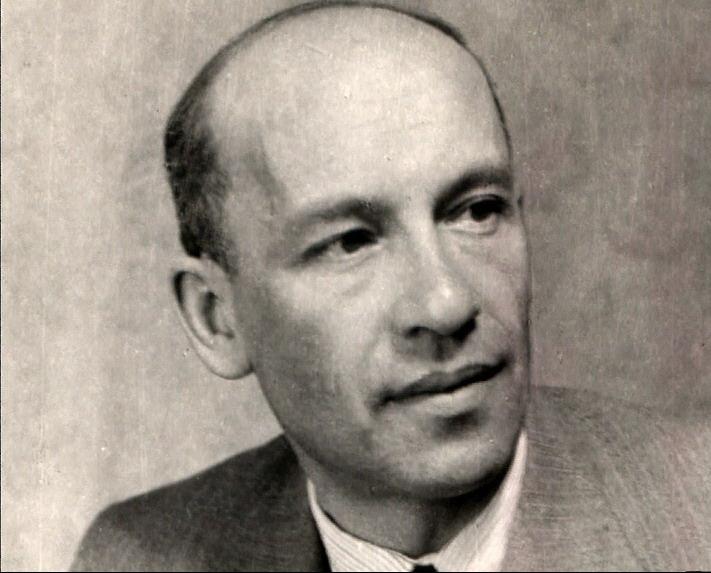 Это может показаться странным, но достаточно редко обращался к танго Исаак Осипович Дунаевский (1900-1955), гораздо реже, чем к вальсу, маршу и фокстроту: «Дымок от папиросы» (на стихи одного из последних представителей генерации поэтов «Серебряного века» Николая Агнивцева) и «Как много девушек хороших» из кинокомедии «Веселые ребята» — вот, пожалуй, и все известные доныне танго-песни, написанные классиком отечественной легкой музыки. Кстати, об Агнивцеве. У Николая Яковлевича были неплохие шансы стать отчественным «первопроходцем» жанра, песни на его стихи сочинял тот же Вертинский. Признанный мастер эстрады и «малой сцены», соратникМарджанова и Евреинова, Агнив-цев еще в 1917 г. оказался в числе инициаторов кабаре «Би-Ба-Бо», известного позже как театр миниатюр «Кривой Джимми», который в 1924 г. дал начало Московскому театру сатиры. За эти семь лет поэт успел попутешествовать по городам и весям бывшей империи, уехать в Париж и вернуться. Первого музыкального руководителя театра сатиры Юрия Юргенсона Агнивцев знал еще по совместной работе в «Би-Ба-Бо». В новом театре должность Юргенсона очень скоро занял Дунаевский. И пока Агнивцева критиковали за аполитичность и упадничество, он работал, понимая то, что много лет спустя сформулирует другой поэт — латыш Оярс Вациетис: «Самый грустный мотив лучше молчания». В грустном танго «Дымок от папиросы» слышны ирония и лукавство, и похож он скорее на театральную стилизацию, но авторы добились большего: их лирический герой жанрово безупречен. И быть бы Дунаевскому первым парнем на деревне «Танговка», если бы тема его увлекла.
Это может показаться странным, но достаточно редко обращался к танго Исаак Осипович Дунаевский (1900-1955), гораздо реже, чем к вальсу, маршу и фокстроту: «Дымок от папиросы» (на стихи одного из последних представителей генерации поэтов «Серебряного века» Николая Агнивцева) и «Как много девушек хороших» из кинокомедии «Веселые ребята» — вот, пожалуй, и все известные доныне танго-песни, написанные классиком отечественной легкой музыки. Кстати, об Агнивцеве. У Николая Яковлевича были неплохие шансы стать отчественным «первопроходцем» жанра, песни на его стихи сочинял тот же Вертинский. Признанный мастер эстрады и «малой сцены», соратникМарджанова и Евреинова, Агнив-цев еще в 1917 г. оказался в числе инициаторов кабаре «Би-Ба-Бо», известного позже как театр миниатюр «Кривой Джимми», который в 1924 г. дал начало Московскому театру сатиры. За эти семь лет поэт успел попутешествовать по городам и весям бывшей империи, уехать в Париж и вернуться. Первого музыкального руководителя театра сатиры Юрия Юргенсона Агнивцев знал еще по совместной работе в «Би-Ба-Бо». В новом театре должность Юргенсона очень скоро занял Дунаевский. И пока Агнивцева критиковали за аполитичность и упадничество, он работал, понимая то, что много лет спустя сформулирует другой поэт — латыш Оярс Вациетис: «Самый грустный мотив лучше молчания». В грустном танго «Дымок от папиросы» слышны ирония и лукавство, и похож он скорее на театральную стилизацию, но авторы добились большего: их лирический герой жанрово безупречен. И быть бы Дунаевскому первым парнем на деревне «Танговка», если бы тема его увлекла.